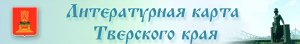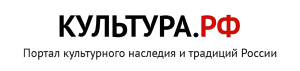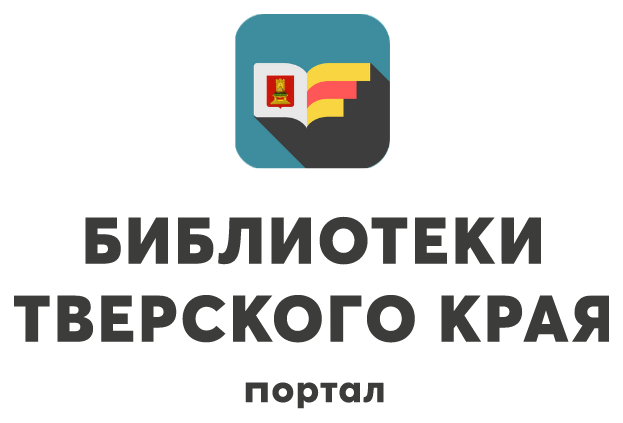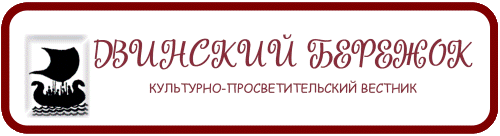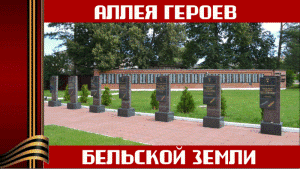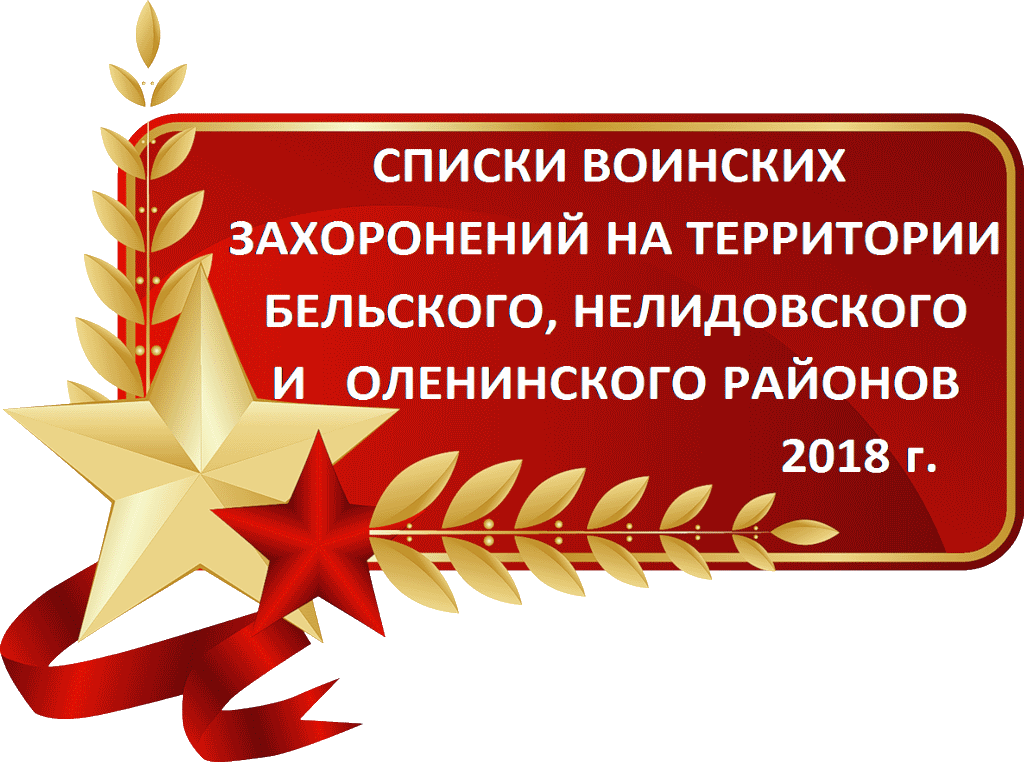АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ОЗНОБИШИН В БЕЛЬСКОМ КРАЕ
 Алексей Александрович Ознобишин (14 октября 1869 — 1929, Чехословакия) — русский общественный деятель и политик, член IV Государственной думы от Гродненской губернии, гродненский вице-губернатор.
Алексей Александрович Ознобишин (14 октября 1869 — 1929, Чехословакия) — русский общественный деятель и политик, член IV Государственной думы от Гродненской губернии, гродненский вице-губернатор.
Православный. Из потомственных дворян Гродненской губернии. Землевладелец той же губернии (539 десятин).
Окончил Императорское училище правоведения IX классом (1890), служил по Министерству юстиции: занимал должности помощника делопроизводителя, городского судьи в городе Белом Смоленской губернии.
Занимался сельским хозяйством и общественной деятельностью: избирался мировым судьей Режецкого округа Витебской губернии и почетным мировым судьей Гродненского уезда, Гродненским уездным предводителем дворянства. В 1905—1906 годах занимал пост Гродненского вице-губернатора. Дослужился до чина статского советника, имел придворный чин камер-юнкера.
В 1912 году был избран в члены Государственной думы от съезда землевладельцев Гродненской губернии. Входил во фракцию русских националистов и умеренно-правых (ФНУП).
В Первую мировую войну состоял уполномоченным 30-го передового санитарно-питательного отряда Всероссийского земского союза. В 1916 году был за границей в составе парламентской делегации. 1 марта 1917, во время Февральской революции, сообщил председателю Думы М. В. Родзянко, что сочувствует революции и переходит во фракцию центра.
После Октябрьской революции эмигрировал. В 1919 году вошел в состав делегации Белорусской Народной Республики на Парижской мирной конференции.
Умер в 1929 году в Чехословакии. Был холост.
А.А. Ознобишин оставил воспоминания, опубликованные в 1927 году в Париже «Воспоминания члена 1V – й Государственной Думы». Это была последняя Государственная Дума царской России под председательством М.В. Родзянко, которая 6 октября 1917 года была распущена Временным правительством по причине подготовки выборов в Учредительное собрание.
В своей книге А.А. Ознобишин вспоминает о своей службе в качестве городского судьи в уездном городе Белом Смоленской губернии.
« В уголовном отделении Министерства Юстиции я прослужил около четырех лет и только на последнем году получил штатную должность Помощника Делопроизводителя X класса, с содержанием около пятидесяти рублей в месяц. Довольно монотонная и однообразная служба начинала меня тяготить. Хотелось иметь дело не с бумагою, а с живыми людьми. В 1895 году вышел в отставку и вскоре скончался Министр Юстиции Николай Авксентиевич Манасеин и должность Министра Юстиции занял молодой и талантливый Николай Валерианович Муравьев. На первом же официальном приеме он нам заявил, что служба в центральном управлении Министерства Юстиции дает мало для начинающих молодых юристов, которые с большею пользою для дела могли бы применять свои познания в провинции. Муравьев был прав. Скоро мне было предложено место Городского Судьи, на выбор, в одном из четырех городов. Будучи страстным охотником и желая отдохнуть от столичной светской жизни, я выбрал самый глухой из предложенных городов - уездный город Белый, Смоленской губернии, расположенный среди дремучих лесов и болот, на расстоянии свыше ста двадцати верст от ближайшей железно-дорожной станции.
 Когда после шестой перепряжки тощих земских лошадей, усталый, измученный и пыльный, в примитивном, тряском, неудобном тарантасе, по избитой, скверной, но широкой дороге, «большаку», я приближался к городу Белому, то мне думалось, что я сделал большую ошибку, избрав местом моего назначения такой отдаленный, захолустный город. Если его окрестности и изобиловали дичью и зверьем, то ведь общение придется иметь с людьми, которые, живя в такой глуши, вероятно невольно тоже озверели. Теперь, когда мне приходится в качестве беззащитного беженца-экспатрианта болтаться между Парижем и Берлином, с символическим Нансеновским паспортом в кармане, как бы намекающим на то, что русский беженец будет желательным гостем только на северном полюсе, - когда я всем существом своим понял, что всякий, даже самый хищный дикий зверь по натуре своей гораздо лучше всякого разнузданного человека, - то теперь мне глубоко стыдно пред зверями за мои несправедливые о них мысли. Действительность, как это часто бывает в жизни, не оправдала, к счастью, моих мрачных предположений. Наоборот, я смело могу сказать, что почти двухгодовое мое пребывание в городе Белом может быть отнесено к самому счастливому и беззаботному времени всей моей жизни. Я с благодарностью вспоминаю то искреннее, простое радушие и любовь, которые я встретил, как среди моих новых сослуживцев, так и среди всех жителей города Белого. Врагов, даже просто недоброжелателей, у меня там не было и это было единственным временем во всей моей жизни...
Когда после шестой перепряжки тощих земских лошадей, усталый, измученный и пыльный, в примитивном, тряском, неудобном тарантасе, по избитой, скверной, но широкой дороге, «большаку», я приближался к городу Белому, то мне думалось, что я сделал большую ошибку, избрав местом моего назначения такой отдаленный, захолустный город. Если его окрестности и изобиловали дичью и зверьем, то ведь общение придется иметь с людьми, которые, живя в такой глуши, вероятно невольно тоже озверели. Теперь, когда мне приходится в качестве беззащитного беженца-экспатрианта болтаться между Парижем и Берлином, с символическим Нансеновским паспортом в кармане, как бы намекающим на то, что русский беженец будет желательным гостем только на северном полюсе, - когда я всем существом своим понял, что всякий, даже самый хищный дикий зверь по натуре своей гораздо лучше всякого разнузданного человека, - то теперь мне глубоко стыдно пред зверями за мои несправедливые о них мысли. Действительность, как это часто бывает в жизни, не оправдала, к счастью, моих мрачных предположений. Наоборот, я смело могу сказать, что почти двухгодовое мое пребывание в городе Белом может быть отнесено к самому счастливому и беззаботному времени всей моей жизни. Я с благодарностью вспоминаю то искреннее, простое радушие и любовь, которые я встретил, как среди моих новых сослуживцев, так и среди всех жителей города Белого. Врагов, даже просто недоброжелателей, у меня там не было и это было единственным временем во всей моей жизни...
По службе работы было мало: около четырехсот дел в году, гражданских и уголовных вместе. Из гражданских большинство приходилось на дела о взыскании денег по векселям, распискам, лавочным счетам. Из уголовных большинство дел составляли полицейские протоколы о неосторожной езде, оскорблении городовых, частные обвинения в обиде, в клевете; преступлений, влекущих за собою наказание тюрьмою, как кража, присвоение, мошенничество было очень мало; дела последнего рода обычно отличались простотою обстоятельств, сопровождавших совершение преступления, и очень часто кончались чистосердечным сознанием обвиняемого. Однако было два рода проступков, носящих почти исключительно местный характер, по крайней мере я таковых при последующей моей судебной и административной деятельности - не встречал. Это было мазание дегтем ворот, считавшееся чрезвычайно позорным и оскорбительным для девиц, и протягивание ночью поперек улицы веревки или проволоки, о которую запоздалые прохожие спотыкались, падали. Обычно поводом первого проступка бывала ревность или оскорбленное самолюбие отверженного ухаживателя. Во втором случае - личная месть, при страхе и желании уклониться от возможного судебного преследования.
Раз в месяц бывали заседания уездного съезда, длившиеся около недели. Тогда в город съезжались из своих имений все шесть земских начальников и председатель съезда уездный предводитель дворянства милейший граф Игорь Алексеевич Уваров, сын известной по архивным трудам графини Уваровой. Это было веселое, оживленное время. Приезжие считались гостями живущих в городе сослуживцев, среди коих и распределяли часы приема пищи. Жили мы все чрезвычайно дружно. Работою в съезде не тяготились, а наоборот с любовью, терпением и напряжением общими усилиями старались уловить в делах истинную справедливость. Дружным настроением и успехом работы мы не мало были обязаны заменяющему предводителя дворянства, всегда по закону участвующему в судебных заседаниях съезда, уездному члену Смоленского Окружного Суда, по Бельскому уезду, добрейшему и любимому «Деду» Александру Викентьевичу Лентовскому, брату известного театрального антрепренера Н. Лентовского.
Вдовый «Дед» Лентовский, прозванный так благодаря преклонному возрасту, около семидесяти лет, был прямой, бравый, видный, высокий старик с седыми усами, как у Тараса Бульбы, и с копною седых волос на голове. Он был веселого характера, обладал врожденным юмором и тактом и заседания вел дельно, хотя пересыпал их остротами и замечаниями; был находчив и никогда не терялся, например: в городе Белом, расположенном за чертою еврейской оседлости, был один и единственный еврей, портной Иголкин. Иголкину случилось быть вызванным в съезд, в качестве свидетеля. По закону свидетели допрашиваются под присягою; в случае отсутствия духовного лица надлежащего вероисповедания, свидетель приводится к присяге председательствующим, с соблюдением религиозных обрядов. Евреи присягают с покрытою головою и кладут руки на священное писание. Книги священного писания на еврейском языке в Съезде не оказалось. Растерявшийся секретарь Съезда, англоман Николай Алексеевич Шестаков, не знал, что делать и выражал свое недоумение жестами отчаяния. Свидетель был для дела важный. Лентовский, не прерывая заседания, встал, как полагается при приводе к присяге, взял находившуюся под рукою, переплетенную в черное, книгу «Устав о Наказаниях, налагаемых Мировыми Судьями», Таганцева и, положив книгу на край стола, громко сказал: «свидетель Иголкин, подойдите к столу, наденьте шапку, положите руки на священное писание и повторяйте за мною слова присяги». Иголкин немедленно повиновался и, по окончании присяги, по приглашению председателя: «поцелуйте священное писание», поцеловал, как требуется, «священное писание». Положение было спасено. «Fiat justitia, pereat mundus!»
Радушие и гостеприимство Лентовскаго не имели границ. Он любил покушать и его кухарка Авдотья изощрялась в кулинарном искусстве. Помню, как особенно вкусна была «фогра», подававшаяся ею на закуску к водке; фогра означала «foie gras» и право не уступала по качеству лучшему Страсбургскому пирогу. Я особенно полюбил и сошелся со стариком Лентовским, который взял меня под свое покровительство и мы виделись ежедневно. Он вставал рано и, не любя ходить пешком, брал одного из трех Бельских извозчиков, коим устанавливалась заранее очередь, и заставлял возить себя шагом по улицам города Белого. Пролетка на допотопных висячих рессорах была очень тряска, а улицы были мощены булыжником не ремонтированным очень давно, поэтому Лентовский был прав, называя свою прогулку «пассивным моционом». Обыкновенно в заключение своего «пассивного моциона» он подъезжал к моей квартире, о чем я, лежа еще в постели, слышал задолго по стуку колес и грохоту экипажа. Поднимаясь по лестнице, он всегда пел: «Гондольер молодой, взор твой полон огня, я стройна, молода, не свезешь ли меня: я в Риальто спешу до заката».
Так как обыкновенно час был очень ранний и я находился еще в постели, то Лентовский неизменно всякий раз вступал в такой диалог с моим рассыльным Сергеем: «Сергей, a Сергей, барин встал?». «Никак нет, барин спит, ведь еще рано». «Как спит, я уже давно встал, скажи барину, что у меня сегодня колдуны на обед, скажи, чтоб непременно приходил и предводитель будет». «Слушаюсь». «Так скажешь?». «Скажу». «Смотри не забудь». «Никак нет». По лестнице вновь раздавалось постепенно затухающее пение: «Гондольер молодой...» и грохот пролетки давал мне знать, что «Дед» уехал.
Помню, как в один из очередных у меня обедов, Земский Начальник Константин Платонович Энгельгардт получил не совсем обычную телеграмму из Петербурга от брата Вадима; телеграмма гласила дословно: «уста немеют, ты выиграл двести тысяч». Деньги ему очень пришлись кстати, ибо дела были довольно запутаны, но он потом сильно жаловался на неотступные и надоедливые, со всех сторон, вымогательства денег, не имевшие за собою ровно никакого основания. Это был единственный человек, выигравший двести тысяч, которого я лично знал.
Появление Энгельгардта Лентовский, любивший «дразниться», всегда и везде приветствовал веселым пением «это тэн, это тэн Constan - ten», на мотив «это я - Nicolas, a, a, а»; при чем указательный палец правой руки направлялся на него.
Лентовский скончался при отправлении обязанностей службы, производя местный осмотр и, далеко от города Белого, в лесной трущобе. Его тело привезли в наскоро сколоченном гробу, но так как дорога по болоту была большею частью устлана срубленными деревьями-кругляками, так называемыми «клавишами», то от тряски и жары труп совершенно разложился и узнать его было невозможно. Близких родных у него не было, кроме брата Николая, антрепренера, скитавшегося с труппою по России. Деда похоронили на Бельском кладбище. Это был честный, добрый человек и хороший судья. Sit tibi terra levis!
Из шести земских начальников я был особенно дружен с Александром Ивановичем Цыбульским, прозванным Лентовским «Посвисталкиным». Прозвище это ему было дано, вследствие необычной подвижности Цыбульскаго и склонности к перемене мест. Он жил в своей усадьбе, очень отдаленной от города, построенной в глухом лесу, был холост н жил вдвоем со своею старушкою матерью, которая обожала сына и огорчалась, что он никак не найдет себе подходящую жену. Старушка была так обворожительно ласкова, так радушно и обильно угощала, была так проста и далека - в прямом и переносном смысле - от света и людей, что невольно вызывала сравнение со старосветскою помещицею Пульхериею Ивановною.
Меня с Александром Ивановичем Цыбульским сближала общая страсть к охоте и у него же в имении мне довелось убить первого в жизни медведя. Цыбульский ухаживал за падчерицей Энгельгардта и довольно часто ездил к нему в имение, когда Энгельгардт еще не занимал должности Земского Начальника. Кучер Цыбульскаго назывался Селифаном и по фигуре и по молчаливости очень напоминал Чичиковскаго кучера Селифана. Однажды Селифан, везя нас с охоты, вдруг неожиданно обернулся с козел лицом к нам и спросил: «а что Энгельгардт теперь может носить кукарду?». Это было вскоре после назначения Энгельгардта Земским Начальником. Получив утвердительный ответ, Селифан вновь погрузился в свое обычное молчание.
Бельский уезд Смоленской губернии по площади занимает громадное пространство земли, покрытое главным образом лесами и болотами, иногда мало проходимыми. Деревни, помещичьи усадьбы и вообще населенные места попадаются редко; охотнику тут раздолье и он всюду является желанным гостем. Бельский Уездный Предводитель Дворянства граф Уваров, милый, симпатичный и радушный человек, держал в своем имении Холме отличную стаю Костромских гончих и при них несколько чрезвычайно голосистых доезжачих и подручных молодцов, в соответствующих зипунах и с нагайками. Каждую осень, когда начиналось «пышное природы увядание» и лес одевался в «багрец и золото», охотники собирались в Холме и проводили незабвенные дни, пользуясь широчайшим гостеприимством хозяина и наслаждаясь благородною охотничьей страстью.
Постоянным, веселым и остроумным участником этих охот был Сычевский уездный Предводитель Дворянства Николай Алексеевич Хомяков, будущий председатель Государственной Думы, известный неустойчивостью своих политических. убеждений, сравниваемою с неустойчивостью его положения на председательском кресле, требующею по обязанности частой перемены положения. Про Хомякова в Думе сложена была даже следующая, не совсем поэтическая, загадка: «Кто он?»
На дочери Хомякова Екатерине Николаевне вскоре женился граф Уваров. Это была крупная красавица, в чисто русском стиле, милая и симпатичная во всех отношениях. Граф Уваров и его супруга чрезвычайно подходили друг к другу, представляли завидный пример семейного счастья и красивую, хорошо подобранную, супружескую чету. Хорошие, редкие люди.
Кроме гончих собак, отлично содержимых на образцово поставленной псарне, у графа Уварова имелась необычайной красоты лягавая сука «Джильда», породы сеттер-лаверак. «Джильда» была награждена на Московской выставке собак золотою медалью и полевые качества её соответствовали её породистой красоте.
Среди ведающих охотою в имении Холме не могу не отметить двух крестьян «Псковичей», с которыми я, вместе с графом Уваровым, охотился на крупных зверей медведей, волков, лосей. Это были по истине удивительные люди, до тонкости знавшие и понимавшие психологию и привычки зверя. Они по снегу выслеживали, обкладывали в лесу зверя и «выставляли» его на охотника именно в том месте, где хотели; зверя вели они буквально, как на возжах. Работали только вдвоем, на лыжах. Выслеживая предварительно зверя, они кое где протягивали веревки, увешанные цветными флажками, кое где на куст или на дерево бросали кусочек цветной тряпочки, рукавицу, бумажку и таким образом, как бы запирали зверя в лесу; на утро «оклад» проверялся; если зверь не уходил из оклада, т. е. не было видно обратных следов, то, немедля, приезжали один, два охотника и занимали заранее определенные места на «лазу зверя», т. е. на тропе, излюбленной зверем. Псковичи устраивали облаву и гнали зверя, при чем вдвоем заменяли обычную массу загонщиков и вместо дикого крика и стука только изредка похлопывали слегка в ладоши или ударяли палкою о ствол дерева. He было случая, чтобы зверь не вышел туда, куда его гнали. Мне особенно памятны два случая охоты с «Псковичами». Как всегда, на крупного зверя, мы с графом охотились вдвоем; были обложены волки, я поставлен на лучшем месте; была очень пасмурная, туманная погода, сильно таяло; ружье было заряжено крупною картечью и входившим тогда в употребление бездымным порохом Лишева; на меня вышло два волка, которые остановились в пятидесяти пяти шагах, став ко мне боком; цель была прекрасная; я сделал дуплет; оба волка согнулись и быстро сделали движение головой к хвосту, как бы желая укусить себя за зад - это был верный признак того, что заряд попал по назначению; об этом также свидетельствовали обнаруженные на снегу капли крови, - но оба волка исчезли и, как выяснило преследование их на лыжах, ушли далеко. Оказалось, что недостаточно туго прижатый к бездымному пороху в патроне пыж, дал возможность, при чрезвычайно сырой погоде, отсыреть пороху и ослабил силу выстрела. Случай был чрезвычайно обидный; я чуть не плакал, в особенности, когда «Пскович», покачивая головою с укоризною сказал: «эх, барин!». Я дал ему золотую монету в десять рублей, что по тогдашнему было много и просил дать мне возможность «исправиться». Он сказал, что это были два молодых волка, что матерая волчица прорвалась без выстрела, так как его сиятельство изволили ее прозевать, что она «должна» остановиться в соседнем лесу, не далеко, что она сегодня же будет обложена и выставлена на меня. Часа чрез три все исполнилось, как было сказано. Матерая волчица вышла на меня в упор и была мною убита наповал.
Второй случай был с лосями. Три дня наши «Псковичи» обкладывали двух лосей, которые не хотели задержаться и всякий раз при проверке оказывались ушедшими из круга дальиие. Лоси обычно делают большие переходы. Граф Уваров и я неотступно ехали за «Псковичами». На четвертый день «Псковичам» удалось наконец как следует обложить лосей и к вечеру мы успели сделать загонку; шел сильный снег, который задержал лосей в густомь чернолесье; мне опять досталось лучшее место; чрез очень короткое время послышался обычный при ходе лосей треск от сломанных ветвей и показалась сперва одна голова, а сзади неё другая, меньшая голова лося, и увы, я ясно различил, что это была лаша с теленком, стрелять которых по закону нельзя было.
Охота по перу с лягавою собакою в Бельском уезде тоже была очень хороша. Выводки тетеревов в изобилии водились в зарослях, расположенных даже недалеко от городского собора, а в недалеком расстоянии начинались моховые болота, столь излюбленные белыми куропатками, так всегда сильно волнующими нервы охотника своим шумным, с особым «хохотом», подемом. У меня был довольно сносный в поле желтопегий сеттер «Дружок» и с ним я часто на несколько дней уезжал из города в жадных поисках новых охотничьих Эльдорадо. В такие поездки возил меня мой приятель крестьянин Илья Михайлов, который, хотя ружья и не имел, но в душе любил и понимал охоту. Иногда в таких экскурсиях меня сопровождал мой письмоводитель Петр Семенович Семенов. Охоту он любил, но принадлежал к типу тех охотников, которых в охотничьей среде принято называть словами «Ахало» и «Пукало». Как только из под стойки «Дружка» шумно срывался выводок тетеревов или куропаток, то он прежде чем стрелять начинал ахать и охать от изумления и восторга, а затем, не целясь, выпускал сразу из обоих стволов оба заряда, не причинявшие в большинстве случаев никакого вреда. После этого Семенов начинал взволнованно объяснять, почему он так «погорячился»; он вообще слегка заикался, а в таких случаях заикался особенно сильно; было забавно его слушать. Илья Михайлов относился к нему с большим презрением.
Кроме Семенова в г. Белом проживал еще ружейный охотник, одноглазый отставной капитан Повало-Швейковский; у него был кофейно-пегий английский пойнтер и пара гончих, неизвестной породы; пойнтер был недурно натаскан, а гончие гоняли зайца больше «в пятку»; «порскал» капитан на гончих всегда одним и гем же словом: «тиу» и это послужило поводом того, что ему дали прозвище «капитан Тиу». Не имея никаких определенных занятий, капитан проводил на охоте буквально целые дни и сделался охотником шкурятником и промышленником, продавая убитую им дичь. В молодости капитан служил под начальством генерала Скобелева, с которым брал «Зеленыя Горы», при взятии коих и лишился глаза. С тех пор он совсем не мог пить водки, так как с первой же рюмки становился пьян. Однако водку он любил и в городском клубе легко было его уговорить выпить; тогда он делался очень смешным, представляя в лицах взятие «Зеленых Гор» и крича при этом «Тиу».
Своеобразный и довольно опасный род охоты - подкарауливание медведей ночью на овсах производится в Августе месяце, в период наливания овса. Услышав по жалобам крестьян, в какое место медведица по ночам водит кормить своих медвежат овсом, выбирают лунную ночь и подкарауливают в засаде появление медведей. Лунный свет очень обманчив для стрельбы и прицельная мушка ружья не всегда ясно видна, поэтому можно легко промахнуться или, что еще хуже, ранить, попав пулею не в убойное место. Раненая в присутствии медвежат медведица немедленно бросается по направлению, откуда был произведен выстрел. Охотник должен проявить всю свою выдержку, чтобы, подпустив на близкое расстояние, сделать верный выстрел или, при слабых нервах, быстро отступить на заранее приготовленную позицию, в виде сеновала или стога сена. Переживание бывает довольно сильным. Медведи очень любят дозревающий овес и при своих посещениях немилосердно его топчут, загребая в лапу колосья, которые с жадностью сосут, производя при этом особый, довольно громкий, чавкающий звук. Часто случается всю ночь просидеть в засаде и только слышать присутствие медведей. Уйти из засады с одной стороны не хочется, в надежде что медведи подойдут на расстояние выстрела, с другой стороны опасно, ибо медведица при медвежатах всегда склонна к нападению. Хуже всего бывает, когда медведи лакомятся овсом совсем близко от охотника, а луна скрывается за тучами и стрелять нельзя. He отсюда ли происхождение «медвежьей болезни», поражающей иногда людей, попадающих в подобное «щекотливое» положение?
Хотя настоящий охотник любит все виды охоты, но я всегда предпочитал особенно поэтичный вид охоты - весеннюю тягу вальдшнепов. Эта охота, как по количеству вальдшнепов, так и по красоте мест тяги, была в Бельском уезде несравненна. Наблюдать в воздухе страстное ухаживание пернатых долгоносых красавцев за своими красавицами, видеть проявление их любви до самозабвения, любви со всеми сопровождающими ее чувствами и действиями, как ревность, месть, поединок, бой, - вся эта картина, действие коей развивается на фоне таинственного полумрака леса, едва подернутого первою свежею, зеленою, кружевною дымкою, - вся эта картина так хороша, так привлекательна, что описать её прелести трудно: надо самому ее наблюдать.
Стрельба вальдшнепов на тяге, не требовавшая продолжительной ходьбы и не связанная вообще ни с какими физическими затруднениями, привлекала внимание любителей, которые всегда вызывались меня сопутствовать. Однако впечатление от тяги вальдшнепов и всей роскошной обстановки бывало иногда так сильно, что охотники любители превращались в настоящих, страстных охотников. Студент Сергей Николаевич Цызырев и вольноопределяющийся Александр Васильевич Маргойт, побывавшие со мною на тяге в качестве свидетелей, воспылали охотничью страстью и превратились со временем в дельных охотников. Мать Цызырева была начальницей женской гимназии и жила против дома, в котором проживал Лентовский, имевший возможность со своего балкона во втором этаже наблюдать ее в саду. Лентовский прозвал ее «волшебницею Наиною», благодаря её седым, растрепанным волосам. Отец Маргойта содержал гостиницу и почтовых лошадей, которыми я пользовался для охотничьих экскурсий. Кроме женской гимназии в городе Белом была мужская шестиклассная прогимназия, выстроенная на средства, пожертвованные местным крупным лесным промышленником Феодором Кузьмичем Резниковым. Это был типичный неграмотный богач и скряга; ему принадлежало несметное количество десятин леса. Лицом он был красен, без растительности; нос имел большой, хищный - крючком; голова тоже без растительности, большая и красная, редькою хвостом вниз, слегка прихрамывал; всем говорил ты, вместо слова изгородь - говорил «азгорода» и каждому, посетившему его впервые, лицу давал читать вслух указ о награждении его орденом Св. Анны третьей степени, за благотворительность. «На, читай, видишь, что тут написано». Если читающий произносил вместо Феодор - Федор, то он его немедленно останавливал: «Читать не умеешь, Феодор, а не Федор». Должен сказать, что из представителей торгового мира один Резников являл из себя отталкивающую фигуру, остальные были все очень симпатичные люди; - Суржанинов, Зенбицкий, Богомолов были культурны и воспитаны.
Как я уже упомянул, в городе был клуб, куда по вечерам собирались мужчины, чтобы «долбануть» (выпить), сыграть партию на билиарде и главное сыграть в карты. Любимою игрою была игра в «рамс» и в «мушку», что почти тоже самое. Все увлекались этою игрою; играли весело и особенно весело, когда в игре принимал участие «Дед Лентовский».
Из ближайших помещиков горожане охотно посещали усадьбу Березовских. По городу давался клич: «сегодня у Перлы, к Березовчихе» и три городских извозчика собирали по городу желающих ехать «у Перлы». Второй такой гостеприимной усадьбою была усадьба земского начальника Бориса Петровича Колечицкаго. Он был прекрасный хозяин и один из первых начал делать и записывать пробный удой коровам. У Колечицких любили танцевать и большой дом способствовал этому. Бельския барышни, среди которых было много действительно красивых, не анемичных, не истеричных, а здоровых красавиц, как например Нина Петровна Суржанинова и другие, очень ценили радушие Ираиды Ивановны, второй супруги Бориса Петровича. Колечицкий, бывший офицер, был дельный земский начальник, много работал, крестьянам всегда говорил: «брат ты мой», но крестьяне его почему то не любили.
Терпеть не могли крестьяне, хотя и боялись, земского начальника статного, высокого, молодого красавца, из военных, Хмару-Барщевскаго. Одевался он немного странно: высокие сапоги со шпорами, синие с красною полоскою рейтузы; серая двубортная тужурка с форменными Министерства Внутренних Дел пуговицами, фуражка с кокардою и стэк в руке. Дисциплину он поддерживал великолепно и волостное и сельское начальство в его участке было честно, работало много, толково, в книгах был порядок, в судах правосудие, по-столько, конечно, по-сколько в волостных судах вообще возможно было правосудие. Сам Хмара-Барщевский работать не любил, но других работать умел заставлять.
Прокурорский надзор в г. Белом сосредоточивался в лице Товарища Прокурора Вишневского, тупого, ограниченного человека. Заключения свои в съезде он давал нудно и отправлению правосудия не помогал, скорее тормозил. Говорил вместо шестнадцать «шешнацать» и заканчивал свое заключение всегда словами: «итак, я говорю, я повторяю».
Почетных мировых судей было мало и кроме бывшего морского офицера Аркадия Семеновича Облачинского почти никто из них в заседаниях съезда участия не принимал. Облачинский владел большим имением, имел прекрасных, резвых лошадей, любил ездить быстро на тройке, при чем кричал кучеру: «Васька, пошел». Почти к каждому произнесенному слову Облачинский имел неуклонную привычку прибавлять: «знаете ли, понимаете ли». Он был прекрасный и честный человек. Его все любили.
Около двух лет провел я в городе Белом и покинул его с искренним огорчением, после долгих и пьяных проводов, увозя, поднесенный на память, драгоценный портсигар, усыпанный подписями всех моих сослуживцев. «Счастливые годы, веселые дни, как вешния воды промчались они».
Источники:
Воспоминания члена IV Государственной думы. — Париж, 1927.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ознобишин,_Алексей_Александрович
Т. Чистякова, директор МУК «Бельская МЦБ», краевед